Смех (Л. Бергсон)
Что означает смех? В чем сущность смешного? Что можно найти общего между гримасой клоуна, игрой слов, водевильным qui pro quo, сценой остроумной комедии? Какая дистилляция дает нам ту, всегда одинаковую, эссенцию, от которой столько разнообразных предметов заимствуют одни свой резкий запах, другие свое нежное благоухание?
Мы выскажем сначала три замечания, которые считаем основными. Они относятся в сущности не столько к комическому, сколько к тому, где его следует искать.
Вот первый пункт, на который я считаю нужным обратить внимание. Не существует комического вне собственно человеческого. Пейзаж может быть красивым, привлекательным, величественным, неинтересным или безобразным, но он никогда не будет смешным. Если мы смеемся над животным, то это значит, что мы уловили у него свойственную человеку позу или человеческое выражение. Если мы смеемся над шляпой, то наш смех вызывает не кусок фетра или соломы, а форма, которую ему придали люди, — человеческий каприз, который в ней воплотился. Я спрашиваю себя, как такой важный в своей простоте факт не привлек к себе большого внимания мыслителей? Некоторые из них определяли человека как «животное, умеющее смеяться». Они могли бы также определить его как животное, способное вызывать смех, потому что если какое-нибудь животное или какой-нибудь неодушевленный предмет вызывают наш смех, то это происходит всегда только благодаря их сходству с человеком, благодаря печати, которую человек на них накладывает, или благодаря тому назначению, которое дает им человек.
Я хотел бы указать, далее, как на признак, не менее достойный внимания, на нечувствительность, сопровождающую обыкновенно смех.
По-видимому, смешное может всколыхнуть только очень спокойную, совершенно гладкую поверхность души. Равнодушие — его естественная среда. У смеха нет более сильного врага, чем волнение. Я не хочу этим сказать, что мы не могли бы смеяться над лицом, которое внушает нам жалость, например, или даже расположение; но тогда надо на несколько мгновений забыть о расположении, заставить замолчать жалость. В обществе людей, живущих только умом, вероятно, не плакали бы, но, пожалуй, все-таки смеялись бы, тогда как души, неизменно чувствительные, настроенные в унисон с жизнью, в которых всякое событие находит отзвук, никогда не узнают и не поймут смеха. Попробуйте на минуту заинтересоваться всем тем, что говорится, и всем тем, что делается, действуйте, в своем воображении, с теми, которые действуют, чувствуйте с теми, которые чувствуют, дайте, наконец, вашей симпатии проявиться во всей ее полноте: как по мановению волшебного жезла, все предметы, даже самые незначительные, станут значительнее, и все вещи приобретут серьезный оттенок. Затем отойдите в сторону, посмотрите на жизнь как равнодушный зритель: много драм превратится в комедию. Достаточно заткнуть уши, чтобы не слышать музыки в зале, где танцуют, и танцующие тотчас же покажутся нам смешными. Сколько человеческих действий выдержало бы подобного рода испытание? И не превратились ли бы многие из них сразу из серьезных в смешные, если бы мы отделили их от той музыки чувств, которая служит для них аккомпанементом? Словом, смешное требует, таким образом, для полноты своего действия как бы кратковременной анестезии сердца. Оно обращается к чистому разуму.
Но разум, к которому оно обращается, должен непременно находиться в общении с разумом других людей. Таково третье обстоятельство, на которое я хотел обратить внимание. Смешное не может нравиться тому, кто чувствует себя одиноким. Смех словно нуждается в отклике.
Наш смех — это всегда смех той или иной группы. Вам, может быть, случалось, сидя в вагоне или за табльдотом (общий стол в пансионатах, отелях), слышать, как путешественники рассказывают друг другу истории, по-видимому, смешные, потому что они смеются от всей души. Вы смеялись бы так же, как и они, если бы принадлежали к их компании. Но не принадлежа к ней, вы не имели никакого желания смеяться. Один человек, которого спросили, почему он не плакал, слушая проповедь, на которой все проливали слезы, ответил: «Я не этого прихода». Взгляд этого человека на слезы еще более применим к смеху. Как бы ни был смех искренен, он всегда скрывает заднюю мысль о соглашении, я скажу даже — почти о заговоре с другими смеющимися лицами, действительными или воображаемыми. Сколько раз указывалось на то, что смех среди зрителей в театре раздается тем громче, чем зал полнее. Сколько раз наблюдалось, с другой стороны, что многие комические эффекты совершенно непереводимы с одного языка на другой, потому что они связаны тесно с нравами и понятиями данного общества.
Чтобы понять смех, его необходимо перенести в его естественную среду, каковой является общество, в особенности же необходимо установить полезную функцию смеха, каковая является функцией общественной. Такова будет — скажем это сейчас же — руководящая идея всех наших исследований. Смех должен отвечать известным требованиям общежития. Смех должен иметь общественное значение.
Отметим теперь ту точку, в которой сходятся наши три предварительных замечания. Смешное возникает, по-видимому, тогда, когда люди, соединенные в группу, направляют все свое внимание на одного из своей среды, заглушая в себе чувствительность и давая волю только своему разуму. Каков же тот особый пункт, на который должно направиться их внимание? Какое применение найдет здесь ум? Ответить на эти вопросы — значит ближе подойти к нашей задаче. Но необходимо предварительно дать несколько примеров.
Человек, бегущий по улице, спотыкается и падает: прохожие смеются. Над ним, мне думается, не смеялись бы, если бы можно было предположить, что ему вдруг пришла фантазия сесть на землю. Смеются над тем, что он сел нечаянно. Следовательно, не внезапная перемена его положения вызывает смех, а то, что есть в этой перемене непроизвольного, т. е. неловкость.
Или вот человек, занимающийся своими повседневными делами с математической правильностью. Но вот какой-то злой шутник перепортил окружающие его предметы. Он погружает перо в чернильницу и вытаскивает оттуда грязь, думает, что садится на крепкий стул, и растягивается на полу — словом, или все у него выходит наоборот, или он действует в пустую — и все это благодаря инерции. Привычка приучила к известному движению. Следовало бы задержать это движение или направить его иначе. Но ничуть не бывало — движение машинально продолжается по прямой линии. Жертва шутки в рабочем кабинете оказывается в положении, сходном с положением человека, который бежал и упал. Причина комизма здесь та же самая. И в том, и в другом случае смешной является косность машины, там, где хотелось бы видеть подвижность, внимание, живую гибкость человека.
Представим себе человека, который думает всегда о том, что он уже сделал, и никогда о том, что он делает, — человека, напоминающего мелодию, отстающую от аккомпанемента. Представим себе человека, ум и чувства которого от рождения лишены гибкости, благодаря чему он продолжает видеть то, чего уже нет, слышать то, что уже не звучит, говорить то, что уже неуместно, — словом, применяться к положению, уже не существующему и воображаемому, когда надо было бы применяться к наличной действительности. Смешное будет тогда в самой личности; она сама доставит для этого все необходимое — содержание и форму, причину и повод. Удивительно ли, что тип рассеянного (как раз таков только что описанный нами человек) всегда вдохновлял художников-юмористов.
Сделаем теперь еще шаг вперед. Не то же ли самое, что для ума навязчивая мысль, для характера — некоторые пороки? Есть ли порок природный дурной склад характера или изуродованная воля, он почти всегда влечет за собою искривление души. Существуют, без сомнения, пороки, в которые душа внедряется со всей своей оплодотворяющей мощью, оживляет их и увлекает в круговорот видоизменений. Это пороки трагические. Но порок, делающий нас смешными, это тот, который приходит к нам, наоборот, извне, как совершенно готовая рамка, в которую мы и помещаемся. Он навязывает нам свою косность, вместо того чтобы воспринять нашу гибкость. Мы не усложняем его, напротив, он упрощает нас. В этом, мне думается, заключается сущность разницы между комедией и драмой. Драма, даже тогда, когда она изображает страсти или пороки общеизвестные, так глубоко воплощает их в человеческой личности, что их названия забываются, их основные характерные черты стираются, и мы думаем уже вовсе не о них, а о воспринявшей их личности. Вот почему названием драмы может быть почти исключительно имя собственное. Напротив, много комедий имеют названием имя нарицательное: Скупой, Игрок и т. п. Если бы я предложил вам представить себе пьесу, которую можно было бы назвать, например, «Ревнивец», то вам пришел бы на ум Сганарель или Жорж Данден, но не Отелло; Ревнивец может быть только названием комедии. Дело здесь в том, что как бы ни был тесно соединен смешной порок с человеческой личностью, он тем не менее сохраняет свое независимое и несложное существование; он остается действующим лицом главным, невидимым и постоянно присутствующим, к которому привешены на сцене действующие лица из плоти и крови.
Порой, забавляясь, он увлекает их за собой своей тяжестью, заставляя катиться вместе с собой по наклонной плоскости. Но чаще всего он обращается с ними, как с неодушевленными предметами, и играет ими, как марионетками. Присмотритесь поближе, и вы увидите, что искусство поэта-юмориста заключается в том, чтобы настолько близко познакомить нас с этим пороком, настолько ввести нас — зрителей — в самую его сущность, чтобы и мы в конце концов получили от него некоторые нити марионеток, которыми он играет. Тогда мы, в свою очередь, начинаем играть ими; этим отчасти и объясняется наше удовольствие. Следовательно, и здесь наш смех вызван чем-то автоматическим. И это, повторяю, автоматизм, очень близкий к простой рассеянности. Чтобы убедиться в этом, достаточно заметить, что комический персонаж обыкновенно смешон ровно настолько, насколько он не сознает себя таковым. Комическое бессознательно.
Приостановим пока наш анализ. Переходя от падающего прохожего к доверчивому простаку, которого подводят, от мистификации к рассеянности, от рассеянности к экзальтации, ко всевозможным извращениям воли и характера, мы проследили, как все глубже и глубже внедряется комическое в человеческую личность, не переставая, однако, в самых утонченных своих проявлениях напоминать нам то, что мы подмечали в его самых грубых формах, — автоматизм и косность. Мы можем теперь составить себе первое, — правда, пока еще довольно отдаленное, смутное и неопределенное, — понятие о смешной стороне человеческой природы и об обычной роли смеха.
Жизнь и общество требуют от нас неустанного напряженного внимания, позволяющего вникать в каждое данное положение, а также известной гибкости тела и духа, которая позволяла бы нам приспособляться к этому положению. Напряженность и эластичность — вот две взаимно дополняющие друг друга силы, которые жизнь приводит в действие. Если их лишено тело, это приводит ко всякого рода несчастным случаям, уродствам, болезням. Если их лишен ум, это приводит ко всем степеням психического убожества, ко всевозможным формам помешательства. Если, наконец, то же происходит с характером, то получается глубокая неприспособленность к общественной жизни, источник нищеты, иногда преступлений.
Раз устранены эти недостатки, имеющие такое важное значение в нашем существовании (а они имеют тенденцию исчезать сами собой под влиянием того, что называется борьбой за существование), личность может жить и жить общей жизнью с другими. Но общество требует еще и другого. Для него недостаточно жить; оно хочет жить хорошо. Опасность для него заключается теперь в том, что каждый из нас, отдав свое внимание самой сущности жизни, может удовольствоваться этим и во всем остальном следовать автоматизму приобретенных привычек. Обществу угрожает также то, что составляющие его члены, вместо того чтобы стремиться ко все более и более совершенному равновесию между отдельными волями, которые должны все теснее и теснее сплачиваться между собой, удовольствуются соблюдением только основных условий этого равновесия; ему недостаточно раз навсегда установленного согласия между его членами, оно требует постоянных усилий ко взаимному приспособлению.
Малейшая косность характера, ума и даже тела должна, следовательно, вызывать неодобрение общества как верный показатели деятельности замирающей, а также деятельности, стремящейся обособиться, отдалиться от общего центра, к которому обществ тяготеет, одним словом — как показатель эксцентричности. Тем не менее общество не может пустить здесь в ход материальное принуждение, потому что оно не задето материально. Оно стоит перед чем-то, его беспокоящим, но это что-то лишь симптом, едва ли даже угроза, самое большее — только жест. Следовательно, и ответить на это оно сможет простым жестом. Смех должен быть чем-то в этом роде – видом общественного жеста. Боязнью, которую он порождает, он подавляет эксцентричность, возбуждает и принуждает к взаимодействию известные виды деятельности второстепенного порядка, рискующие обособиться и заглохнуть, сообщает, одним словом, гибкость всему тому, что может остаться от механической косности на поверхности социального тела.
Смех не относится, следовательно, к области чистой эстетики, потому что он преследует (бессознательно и во многих частных случаях нарушая требования морали) полезную цель общего совершенствования. В нем есть, однако, и нечто от эстетики, потому что смешное возникает как раз в тот момент, когда общество и личность, освободившись от забот о самосохранении, начинают относиться к самим себе как к произведениям искусства. Одним словом, если включить в особый круг те действия и наклонности, которые вносят замешательство в личную или общественную жизнь и карой за которые являются их же собственные естественные последствия, то вне этой сферы волнений и борьбы, в нейтральном поясе, где человек для человека служит просто зрелищем, остается известная косность тела, ума и характера, которую общество тоже хотело бы уничтожить, чтобы получить от своих членов возможно большую гибкость и возможно более высокую степень общественности. Эта косность и есть смешное, и смех — кара за нее.
Остережемся, однако, принять эту формулу для определения смешного. Она подходит только для случаев простейших, теоретических, вполне законченных, в которых смешное свободно от всякой примеси. Мы не даем ее в качестве объяснения. Мы возьмем ее, если хотите, как лейтмотив, который послужит аккомпанементом для всех наших объяснений. Ее нужно будет всегда иметь в виду, но не слишком сосредоточивая на ней внимание: приблизительно так хороший фехтовальщик должен помнить об отдельных приемах фехтования и вместе с тем непрерывно наступать.
Источник: Психология эмоций. Под редакцией В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер
Просмотров: 11256
Все материалы из данного источника: Вилюнас В. К. ->
Понравился проект и хотите отблагодарить?
Просто поделитесь с друзьями, кликнув по кнопкам социальных сетей!
Вам также может быть интересно:
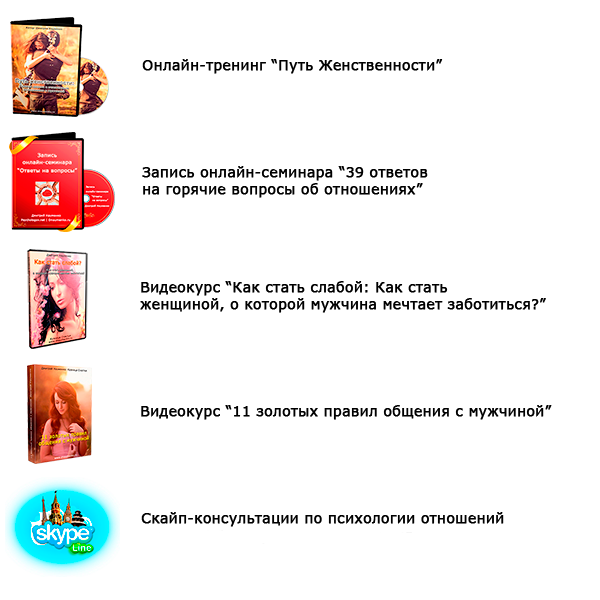
Будьте в курсе. Присоединяйтесь к нашему сообществу!
